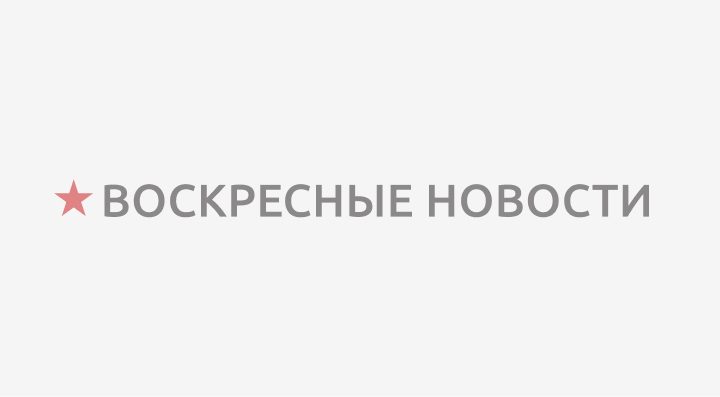Главврач, хирург и почетный гражданин Московской области Юрий Райхман — о том, как победить ковид и почему врачи не оперируют родственников.
В конце сентября Мособлдума присвоила звание «Почетный гражданин Московской области» главному врачу Воскресенской районной больницы № 2 Юрию Райхману. Обозреватель РИАМО пообщалась с медиком и выяснила, как он относится к этой награде и что самое сложное в работе хирурга.
— Юрий Наумович, вы недавно получили звание «Почетный гражданин Московской области». Как относитесь к такой награде?
— Очень неожиданно. Звание почетного гражданина района, которое мне дали раньше, как главный врач, врач-хирург, депутат, может быть, я и заслужил. А вот почетный гражданин области — слишком высоко. Когда там такие мировые звезды, как Леонид Рошаль, Лео Бокерия, Борис Громов, Сергей Шойгу, и вдруг я — какой-то врач-хирург. Что-то не по заслугам, если честно.
Не знаю, чем была вызвана эта награда, хотя я очень благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву, Светлане Анатольевне Стригунковой, но мне кажется, что для меня это слишком высоко.
— Вы уже много лет работаете хирургом. Что самое сложное в вашей работе?
© РИАМО, Пелагия Тихонова
— Я действующий оперирующий хирург. Каждому хирургу нужно иметь смелость пойти на операцию — и еще большую смелость, чтобы от операции отказаться.
Все почему-то считают, что все хирурги — резаки, что нам бы только оперировать. Ничего подобного! Нет такого хирурга, который не боится каждой операции. Каждую операцию продумываешь, идешь и делаешь максимально эффективно и минимально инвазивно.
Бывают операции нетрадиционные, нестандартные, и приходится принимать нестандартное решение — вот это самое сложное. Когда идешь на орган, который ты постоянно не оперируешь: ножевое ранение, огнестрельное ранение, какое-то заболевание, — и нужно принять единственное правильное решение, а за спиной у тебя никого нет, потому что ты старший и ты должен это сделать.
— Помните свою первую операцию? Сколько вам было тогда лет?
— Это был второй курс медицинского института, практику проходил здесь, в этой больнице. Практика была тогда санитарская, но я с детства мечтал о хирургии, и мне разрешили вскрыть лактационный мастит, который возникает у женщин во время кормления. И вот вместо того, чтобы прикрыть скальпель салфеточкой, я беру скальпель (естественно, стоит хирург в стороне, смотрит на меня). Делаю разрез — и фонтан гноя мне в лицо! А ощущение, что ты совершил какой-то героический поступок, сделал разрез сам — это было здорово. Вот это была первая операция, которую я сделал.
Если вспомнить еще более раннее время, когда я служил в армии, то вот там пришлось даже удалять вросшие ногти. И мне казалось это таким поступком: я прооперировал, ноготь удалил. Ну а дальше, с 1 августа 1983 года, в этой больнице начались самостоятельные дежурства.
— Какая была ваша самая сложная операция?
© РИАМО, Александр Манзюк
— Самая сложная — огнестрельное ранение было в 1993 или 1994 году. Массовое повреждение практически всех органов брюшной полости и грудной клетки. Вот тогда пришлось поковыряться — это было очень сложно.
Были и опасные операции, наверное, те, которыми я горжусь. В 1995 год поступил пациент с торакоабдоминальным ранением, то есть ранение и живота, и грудной клетки — нож прошел снизу вверх: повреждения желудка, толстой кишки — и проткнул перикард — сердечную сумку, но до сердца не достал. По животу все вроде бы ничего, только нагноилась рана, а вот в сумке начал развиваться перикардит, и гной начал сдавливать сердце. Человек начал умирать. Тогда я рискнул пойти на торакоскопическую операцию, то есть сделать не обычный разрез грудной клетки, а провести операцию эндоскопическим методом.
Этого никто никогда не делал и нигде это не было описано — я просто посмотрел анатомию и пошел на операцию.
Я вскрыл перикард, убрал гной, задонировал сердечную сумку, поставил дренажи — и больной ушел живым и здоровым. Это одна из таких операций — нестандартных, нетрадиционных.
Страшная операция была в 1995 году. Мы были в круизе со всей семьей по Средиземному морю. У сына 5 мая заболел живот. Когда я посмотрел его, волосы встали дыбом (их у меня тогда еще было много), — типичная картина аппендицита. Мы в это время были на экскурсии.
Приезжаем обратно на теплоход. Там было три врача: терапевт, стоматолог и хирург. Хирург говорит мне, что нужно ехать в клинику. Это значит, что мы должны остаться, теплоход уйдет в свое плавание. А мы в первый раз в жизни за границей вообще. Плюс мы увидели грязь в Египте.
Ну и я принимаю решение оперировать сам, даю расписку, что я хирург. Я был сам себе анестезиолог, сам и хирург. Судовой стоматолог сидел на капельнице, я ему дозировал препараты, а ассистировал мне судовой хирург.
Разрез сыну было сделать сложно и страшно, а дальше я забыл, что это сын. И 8 мая он уже поехал с нами на экскурсию.
Вот на эту операцию пойти было страшно. Вообще, у нас есть такое правило: родственников не оперировать, но здесь была безвыходная ситуация.
— А почему хирурги не оперируют родственников?
— Здесь две причины: во-первых, морально-этический фактор — если я сам оперирую своего родственника, значит, я не доверяю своим коллегам. А я им доверяю. Естественно, здесь бы (в России — прим. ред.) я бы даже в операционную не вошел смотреть, что делается. Во-вторых, ты невольно подвержен эмоциям. Эмоции могут очень помешать во время работы в операционной.
— Тяжело ли морально переживать отрицательный результат операции?
© РИАМО, Пелагия Тихонова
— Году, наверное, в 1998-м я ассистировал на операции своего приятеля, мы были вместе с ним в детском садике, в школе. Оперировал другой хирург, он все сделал очень хорошо, а больному все хуже и хуже. Уже повторно на операцию беру его я. Вижу перитонит и понимаю, что развивается панкреонекроз — тяжелейшее осложнение после резекции желудка. И дальше, несмотря на все наши действия, Ренат погиб. Я много раз потом анализировал эту операцию, вот каждую секунду, каждый этап.
Кто-то говорит, что врачи черствеют. Ничего подобного, каждый смертельный исход — это стресс, который не купируется. И говорить родственникам о том, что их отец, мать, брат, сын умер — это очень трудно, мы никогда к этому не привыкнем. До сих пор у меня это не получается.
— Ситуация с коронавирусом в области и в Воскресенске становится хуже?
— Да, ситуация все хуже и хуже. Никогда не было такого, чтобы меньше 10% коечного фонда по области было свободно. Ситуация критическая.
Поэтому всегда, когда даю интервью, я говорю, — вакцинируйтесь.
Я сегодня захожу к одной женщине — я ее очень хорошо знаю, я тут местный. Говорю ей: «Почему ты не вакцинировалась?» А она в ответ: «Я собиралась». Уже с декабря прошлого года идет вакцинация, сколько можно собираться? Ты что, в космос собираешься? Иди и вакцинируйся.
Ведь ни в одной стране правительство не сделало это настолько возможным и доступным, как в России. Например, в Израиле нет такого, чтобы врачи ходили по домам и раздавали лекарства, а вакцинируются при этом 60–70%. Может быть, и нам нужно принять такое решение: прекратить посещение врачей на дому и тем более не выдавать лекарственные препараты. Может, и жестоко, но тогда люди, может быть, поймут.
Смотрите, «Коронавир» (базовый для лечения ковида) стоит пять тысяч, «Ксарелто» — три тысячи. «Коронавира» на курс одному человеку нужно две упаковки, то есть уже 10 тысяч рублей, «Ксарелто» — минимум на полгода.
Мне кажется, нужно быть жестче. В мае месяце я издал приказ по больнице, что на плановую госпитализацию без вакцины нельзя. Буквально через две недели Сергей Собянин (мэр Москвы — прим. ред.) принимает точно такой же указ по Москве, а Михаил Мурашко (министр здравоохранения РФ — прим. ред.) рекомендует мой приказ по всей России.
Значит, я был прав — и плевать, что про меня пишут в социальных сетях.
— На ваш взгляд, остановить коронавирус поможет исключительно вакцинация?
 © РИАМО, Пелагия Тихонова
© РИАМО, Пелагия Тихонова
— Нужен комплекс мероприятий: первое — это вакцинация, второе — это жесткий режим: штрафовать всех, кто без масок, обязательные QR-коды. Я бы сейчас даже заблокировал социальные карты невакцинированным пенсионерам, как это было во время первого локдауна. Ну и локдаун — это три.
Причем я бы ввел локдаун не для того, чтобы люди сидели дома и получали зарплату, а для того, чтобы вакцинировались. А контролировать так: если на предприятии 80% сотрудников вакцинированы, неважно, общепит это или фирма, которая производит запчасти, — открывайтесь, а если нет — прогорайте, и никакой поддержки. Уверяю вас, коммерсанты считают свои деньги, им нужно получать прибыль, они заставят вакцинировать всех. Полумерами действовать нельзя.
— Число инфицированных растет ежедневно. Готовы ли медики вновь работать в режиме нон-стоп?
— Врачей становится все меньше, фельдшеров все меньше, пожилые убегают из профессии, а молодые уже профессионально выгорели. Полтора года — это много. Посмотрите, волонтеров все меньше. Энтузиазм заканчивается. Теперь мы остались на переднем краю.
А эти нигилисты и вакциноскептики для меня равны врагам народа.
Система здравоохранения уже сейчас не выдерживает. Никто так не развернулся, как Московская область — это пример для всех, даже для Москвы. Мы сразу были оснащены всем, но ведь и бюджет не резиновый. Есть еще масса социальных программ, которые нужно выполнять.
— В прошлом году в Воскресенске открыли памятник погибшим от ковида врачам…
© РИАМО, Пелагия Тихонова
— Да, это моя боль. Я не могу об этом спокойно говорить, хотя я очень жесткий человек. Первый, кто у нас погиб — это Гриша Карасев, мой друг. Мы с ним вместе срочную службу в армии проходили в Коврове и все годы проработали вместе. Гриша был анестезиолог. В последний раз, когда я его видел, я выходил из конференц-зала, а Гришка шел без маски из терапии — туда попал ковидный больной, у которого резко ухудшилось состояние. Он его интубировал и оказывал помощь. Больше Гришку я не видел — его не спасли.
Машенька Мокроусова, чудесная девочка, погибла. Иринка Отраднова — сразу по первому призыву написала заявление о переходе в ковид, погибла. Наташа Крюкова — она уже немолодая медсестра была, вроде вылезла после ковида, вылечилась. Она вышла на работу, а через неделю случился инфаркт — типичное постковидное осложнение, высокая свертываемость крови, тромб в коронарной артерии, смерть.
Это тяжело все переносить, конечно, я не мог не открыть этот мемориал. Коммерсанты мне в этом помогли. Теперь там всегда лежат цветы.
/Источник: